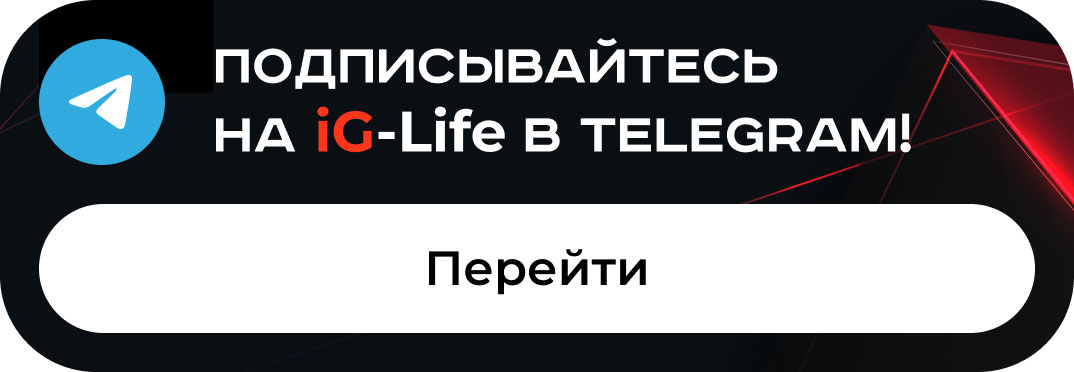Почему в США «спальники» сносят, а у нас строят и строят?



В Соединённых Штатах, начиная с 50-х, а особенно в 60-е годы, развернулась масштабная строительная кампания. Один за другим появлялись новые жилые массивы, застраивавшиеся стандартными зданиями из кирпича и бетонных плит различной этажности. Поразительно, но в этом отношении Америка неожиданно напоминала Советский Союз. Правда, если в России, Украине или Казахстане те самые микрорайоны всё ещё стоят и активно используются, то в США от них остались разве что фотографии и воспоминания – спустя каких-то два десятилетия эти кварталы начали сносить. Казалось бы, зачем было начинать столь амбициозные проекты, если они так быстро стали нежеланными? Попробуем разобраться, что стояло за этим урбанистическим парадоксом.
Одной из главных заслуг Никиты Хрущёва принято считать решение жилищной проблемы, которая оставалась болезненной в Советском Союзе после войны. Победа в Великой Отечественной не избавила страну от разрушений — наоборот, многие крупные города лежали в руинах, и миллионы людей ютились в бараках, коммуналках и саманных домишках. Сталинская архитектура стремилась к парадности: московские, ленинградские, киевские и харьковские проспекты украшались величественными сооружениями, в то время как большинство населения продолжало жить в крайне стеснённых условиях.
Когда Хрущёв отказался от архитектурных излишеств, он вовсе не стремился к единообразию ради самого единства. Главное для него было другое — создать простое, доступное жильё, пусть маленькое, без особого комфорта, но личное. Это дало миллионам семей возможность получить собственную крышу над головой — пусть и с крохотной кухней, без лифта и с тонкими стенами.

Подобный подход разделяли не только в странах социалистического блока. Модернистские идеи облетели и капиталистический мир. В Париже, Лондоне, Риме и Мадриде на окраинах вырастали почти идентичные жилые районы — стандартизированные, быстро возводимые и относительно недорогие. Эти дома должны были заменить устаревшее жильё, разрушенное войной или пришедшее в негодность со временем.
Америке, по большому счёту, не нужно было срочно решать такие задачи: боевые действия не затронули её территорию, а концепция американской мечты давно ассоциировалась с отдельным домом на зелёном участке где-нибудь в тихом пригороде. Тем не менее, именно в этих самых пригородах и начали возводить первые жилые массивы – задолго до того, как подобная практика появилась в СССР.
После окончания Второй мировой войны, в 1949 году, Конгресс США принял новый закон о жилье, который, среди прочего, закреплял право каждого американца на достойное жильё в благоприятной среде. Это было не просто благородное намерение — на тот момент в Соединённых Штатах сохранялись обширные районы, где люди жили в настоящих трущобах, зачастую в условиях, мало отличающихся от реалий восточноевропейских стран.

Всё это жильё строилось ещё в индустриальную эпоху, начиная с конца XIX века, когда рост промышленности требовал дешёвого и доступного жилья для огромного количества рабочих. Металлурги, шахтёры, химики и нефтяники поселялись в тесных и часто антисанитарных кварталах, где плотность населения достигала ужасающих масштабов. Борьба с перенаселением и инфекциями стала приоритетной задачей, и потому идеи обновления жилищного фонда воспринимались с воодушевлением.
Появление нового жилья совпало с началом миграционных процессов. Активная часть населения — в основном белые американцы — стала массово переселяться из центров городов в пригороды, стараясь покинуть места, превращающиеся в очаги нищеты и криминала. Муниципалитеты теряли доходных налогоплательщиков, а на их место переезжали более бедные жители, чаще всего афроамериканцы или выходцы с юга страны. Цена на жильё стремительно падала, а кварталы превращались в зону отчуждения.

Закон 1949 года предусматривал гигантские инвестиции в реновацию — более миллиарда долларов направили на снос трущоб и создание на их месте современных жилых комплексов, вдохновлённых идеями французского архитектора Ле Корбюзье. Он предлагал отход от привычной городской сетки: вместо переполненных кварталов он настаивал на свободной застройке с обилием зелени и инфраструктуры, необходимой для полноценной жизни.
Согласно его концепции, такие районы возводились по промышленной технологии, что позволяло быстро и экономично обеспечивать жильём множество семей. Здания отделялись от промышленных зон, внутри районов планировались школы, магазины, зоны отдыха и культурные центры. Квартиры становились более просторными, а цена на квадратный метр — более доступной.
Эти принципы легли в основу градостроительных реформ как в социалистических, так и в капиталистических странах. В Америке такие идеи оказались особенно привлекательными на фоне амбициозной цели — предоставить каждому американцу жильё, соответствующее стандартам комфорта и безопасности. Но не всё пошло по плану.
Ярким примером первых подобных преобразований в США стал жилой район Пруитт-Айго, построенный в Миссури для ликвидации трущоб на месте района Де Сото Карр. На проект выделили средства, а реализация досталась архитектору Минору Ямасаки — тому самому, кто впоследствии построил знаменитые башни-близнецы в Нью-Йорке. Новый жилой массив состоял из 33 многоквартирных зданий по 11 этажей, предназначенных для 10 тысяч человек. Район делился на «белую» и «чёрную» части — Айго и Пруитт соответственно. Но вскоре, после признания сегрегации неконституционной, границы стерлись, и белые начали массово уезжать. На их место пришли бедные афроамериканцы.

Проблема заключалась в том, что расходы на содержание комплекса должны были нести сами жильцы. Но в новых условиях это оказалось невозможным: большую часть населения составляли люди с низкими доходами, и квартплату многие просто не могли платить. Это привело к быстрому упадку района. Инфраструктура ветшала, мусор перестали вывозить, окна не ремонтировали, а запланированные школы так и не появились. Район постепенно превратился в гетто, захваченное безработицей, нищетой и преступностью. Нарковлияние росло, гангстерские группировки чувствовали себя вольготно, а дома стали небезопасны даже при дневном свете.
Уже через десять лет от сдачи в эксплуатацию большая часть зданий стояла пустой. В 1972 году власти приняли решение о полном сносе всего комплекса, и американский модернизм буквально взорвался вместе с последними домами Пруитт-Айго. Подобные проекты в других городах США — в Чикаго, Лос-Анджелесе и других мегаполисах — просуществовали немного дольше, но их судьба в итоге была такой же. Единственным исключением стал Нью-Йорк, где условия оказались иными.
В отличие от большинства городов, в «Большом Яблоке» хронически не хватало места. Многоэтажные дома некуда было расселить, а затраты на ликвидацию подобных комплексов грозили обанкротить местную власть. Поэтому жилые здания, построенные в середине XX века, остались стоять на своих местах. Они всё ещё используются как социальное жильё, а замена их на что-либо иное в обозримом будущем выглядит крайне маловероятной.

Почему же модель Ле Корбюзье провалилась в США? Всё достаточно просто. Эти дома возводились на месте трущоб, и в них вселяли тех же самых людей, зачастую без каких-либо изменений в их социальной или экономической ситуации. Районы становились визуально новыми, но по сути оставались такими же бедными и проблемными. Уровень жизни не рос, жильё быстро приходило в упадок, и спустя несколько лет казалось, будто тут ничего и не менялось.
Кроме того, отмена расовой сегрегации не изменила общественных настроений. Люди не были готовы жить в соседстве с теми, кого привыкли избегать. Совместное проживание оставалось вынужденной мерой, когда не было иных вариантов. Устремлённые в пригороды американцы продолжали покидать города, уводя за собой налоги и экономическую активность. Образ новостроек не ассоциировался с надеждой, скорее — с безысходностью. В массовом сознании они стали символами бедности, а не прогресса.
Советский опыт оказался иным по одной простой причине — выбора у граждан не было. Частные дома в пригородах, за исключением редких дачных участков, были недоступны. Поэтому советские микрорайоны стали не альтернативой, а единственным вариантом. Да, они были серыми, однотипными, с малюсенькими кухнями, но других решений просто не существовало. В СССР модернизм прижился потому, что людям не оставили иного выхода. В США — потому что дали слишком много свободы.












.svg)